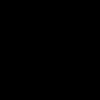Наше настроение имеет не только «словесную формулировку».
Наше настроение имеет некое образное представление. Мы можем его изобразить, в прямом смысле показать, выразить в виде зрительного образа.
Любое наше душевное состояние можно передать в виде картинки, выражающей это состояние. Например, ощущение счастья, радости можно изобразить в виде ярких цветов или сияющего солнца, красивого яркого пейзажа. Состояние недовольства, напряжения, обиды или тяжести – тоже можно выразить в виде зрительного образа, просто взяв карандаши или фломастеры, мелки или краски – чем удобнее тебе рисовать – и вырисовав его на лист бумаги.
На этом – на работе со зрительным образом, выражающим проблемную, негативную ситуацию – и основывается техника трансформации образа – в желаемый, хороший, позитивный. И этот способ изменения настроения поможет тебе в любой неприятной, сложной ситуации освободиться от ее негативности, создать позитивное настроение, найти в себе ресурсы для дальнейшей жизни.
Вырисовывание ситуации в виде образа на лист бумаги – это уже освобождение от плохого настроения. Ты вырисовываешь его вовне. Оно уже не в тебе – оно отдельно от тебя, на листе бумаги. И, отстранившись от него, ты можешь его рассмотреть, рассмотрев вместе с ним и саму ситуацию, требующую перемен. Ты сможешь что‑то важное понять или увидеть.
Иногда бывает достаточно только первого этапа – такого вот вырисовывания ситуации, отображения ее на листе бумаги, чтобы настроение изменилось, пришло осознание причин создавшейся ситуации, чтобы появились мысли, решения по поводу дальнейшей жизни.
Но ты сможешь реально изменить ситуацию, поработав над переменой самого образа, рисунка. Можно перейти от анализа образа к изменению его, сказав себе: «Такова моя реальная ситуация, которая меня не устраивает. А как я хочу, чтобы было? Какой мне бы хотелось видеть эту ситуацию?»
И ты можешь взять другой лист бумаги и изобразить на нем другую, лучшую желаемую ситуацию, такой, какой ты хочешь ее видеть.
Этот процесс – создания желаемого образа ситуации – уже настолько позитивен, что, пока ты его рисуешь – твое плохое настроение исчезает, или, по крайней мере, улучшается. Потому что ты в этот момент находишься в процессе творчества, в процессе созидания – а это состояния, несовместимые со страданием, негативными эмоциями. Это терапия самим процессом творения своей желаемой жизни хотя бы на уровне картинки.
Этот второй этап в работе по перемене образа ситуации иногда уже сам по себе разрешает всю ситуацию, потому что созданная тобой новая картинка уже есть во многом ответ на вопрос – почему произошла ситуация, что нужно изменить, чтобы это не повторялось, что делать, чтобы было так, как ты хочешь.
Но можно еще продолжить, углубить эту работу.
Положи два листа рядом и посмотри на них, как на два разных отражения одной и той же ситуации. Дай себе время подумать, проанализировать – что нужно изменить в себе, своем поведении, в отношениях с людьми, чтобы ситуация стала такой, какой ты хочешь. Как и в случае с переменой убеждений, запиши свои мысли не просто в виде «Я хочу…», а в виде решений:
Я беру на себя ответственность.
Я учусь за себя стоять.
Я начинаю себя ценить.
Я освобождаюсь от неуверенности.
Я становлюсь сильным.
Я нахожу возможности перемен.
Я создаю ситуацию такой, какой я хочу ее видеть.
Вот этот этап – принятия решений – уже действительно сильный этап. Потому что принятие решений – это состояние сильного человека.
Вот почему такая глубокая и интересная работа над образом негативной ситуации всегда приводит к ощущению силы, ресурсов, возможностей выхода из ситуации.
Но поверь, даже если ты не будешь работать так глубоко, а просто в ситуации плохого настроения, расстройства, обиды или недовольства, придя домой, найдешь несколько минут, чтобы вырисовать на лист бумаги всю ситуацию в виде зрительного образа, тем самым уже освободившись от нее, и найдешь еще несколько минут, чтобы нарисовать второй, желательный вариант ситуации – позитивный, хороший – ты уже поддержишь себя и поможешь быстрее пережить эту ситуацию, увидеть выходы из нее.
Есть еще несколько вариантов техники трансформации образов ситуации, очень простых, но эффективных. Нарисовав реальную ситуацию, ты можешь прямо на этом листе изменить ее. Внести в нее какие‑то перемены, чтобы она стала другой. Может быть, нарисовать улыбку на печальном лице или дорисовать на темный, мрачный лист солнце и яркие цветы. Или дорисовать до темной глыбы, которой только что себя изобразил, крылья, превратив ее в птицу, дав возможность себе почувствовать некую легкость и возможность движения.
Всегда есть возможность переделать, перетворить образ ситуации, образ твоего душевного состояния в лучший. И эта работа может помочь тебе осознать реальные пути выхода из ситуации, просто позволит тебе понять, что все меняется, всегда есть место переменам, и эта мысль поддержит тебя в поиске этих возможностей.
Проводя мастер‑класс по работе с убеждениями, я часто встречала удивительные трансформации образов, которые тут же откликались в людях мгновенным изменением настроения, осознанием каких‑то важных моментов.
Я помню, как одна молодая женщина, изобразив себя на листе черным квадратом, выразив тем самым свое подавленное, мрачное настроение, сначала растерянно смотрела на рисунок, не понимая, что нового можно внести в рисунок, какие перемены, чтобы он изменился, стал из негативного позитивным.
Потом она дорисовала – несколькими разноцветными штрихами – салют, который как бы исходил из этого квадрата. Всего несколько ярких штрихов, заканчивающихся яркими звездочками, и рисунок ожил, заиграл, стал веселым. И она удивленно сказала:
– Я думала, у меня такое состояние, что мне уже ничем не поможешь. А ведь на самом деле – несколько штрихов все могут изменить. И может быть, мне самой для начала перемен нужно сделать эти несколько штрихов: просто яркое платье надеть, или губы подкрасить, – совсем другое настроение появится…
Другая женщина сначала так же растерянно смотрела на свой рисунок, выражавший ее реальное состояние – маленькую точку посредине листа.
– И что тут можно изменить, тут и менять‑то нечего. Меня нет, я сейчас – как эта малюсенькая незаметная точка…
Но спустя какое‑то время из этой точки, как из точки отсчета, как с начала пути – появилась линия, и превратилась в красивую и большую букву «Я». И сама женщина была поражена этой трансформацией – то, что казалось ей концом, просто точкой, оставшейся от нее – стало началом ее нового «Я».
И я помню, сколько обсуждений этот простой вывод вызвал в группе, как он затронул каждого участника. Мы иногда действительно доходим в своем состоянии расстроенности, разрушенности до состояния точки, молекулы. И иногда кажется, что уже нет сил жить, собраться во что‑то большее.
Но любая точка, молекула может стать началом нового, дать росток новому. Ничто не заканчивается, пока мы живы. Всегда есть место переменам, есть возможность роста.
Мир круглый, и то, что кажется нам концом, может оказаться началом.
Айви Прист
Я хочу посоветовать тебе еще один простой способ помощи самому себе в ситуации плохого настроения, также основанный на изменении образа ситуации или твоего состояния.
Нарисуй реальную ситуацию простым карандашом. Вырисуй ее полностью, не оставив в себе ничего от своих переживаний или мыслей.
Потом возьми ластик и тут же сотри все, что тебе не нравится. И нарисуй так, как нравится. Или сотри какие‑то части рисунка, которые тебя не устраивают, изменив характер линий, или размеры, или выражения лиц. Такая мгновенная трансформация дает удивительное ощущение возможности перемен. Подсоединяет нас к нашим «детским» состояниям – легкости, уверенности в «хорошем» конце.
Будучи детьми, мы часто так рисовали – с ластиком в руке, стирая все, что не получалось сразу. И будучи детьми, мы так не страдали и не переживали, как став взрослыми, потому что относились к жизни легче, позитивнее, не видели в ней обреченности, которую часто видят взрослые люди.
Но жизнь действительно никогда сразу, с первого раза не проживается без ошибок, срывов, не‑ удач. И это не страшно. Все можно изменить. Точно так же, как можно стереть неудавшийся рисунок и нарисовать новый.
Есть еще один хороший способ помочь себе изменить собственное настроение, которое, как ты уже понимаешь – и создает тебе твой жизненный настрой, твои поступки и их последствия.
Наше настроение имеет не только «словесную формулировку», его можно выразить не только в виде зрительного образа. Наше тело несет в себе, передает это настроение. И когда мы печальны, расстроены, напряжены или обижены – наше тело показывает эти состояния. И помогает нам в них же и оставаться. Склоненная голова, печальный взгляд – только оставляют в тебе твое негативное состояние.
Но придай телу форму уверенного человека – и тут же испытаешь уверенность. Стань в позу силача, – и ты почувствуешь силу. Раскрой руки, представь их крыльями и «полетай», как птица, – и ты почувствуешь легкость. Попрыгай на одной ножке и почувствуй себя ребенком, в жизни которого нет проблем.
Найди тот образ себя, его проявления, который поможет тебе сейчас снять ощущение тяжести или недовольства, освободиться от плохого настроения. Трудно оставаться в плохом настроении, летая по комнате, как чайка, или паря, как орел, или танцуя танец папуасов.
Выбор опять только за тобой – оставаться ли тебе в плохом настроении или, вспомнив о своей ценности для себя, своей единственности – помочь себе быстрее выйти из него, поискав в себе ресурсы и силы.
И если ты вспомнишь о своей ценности – тебе захочется «расчистить» для себя пространство, найти для себя время. Взять лист бумаги и, воспользовавшись каким‑нибудь из предложенных способов, изменить свое настроение. Или позволить своему телу выразить твое желаемое настроение, поискать в нем радостные, сильные образы, представить себя победителем или свободной, страстной танцовщицей.
И нет ничего увлекательнее творения своей желаемой жизни, работы по своему личностному росту. Нет ничего более важного, чем помощь самому себе, когда ты в ней нуждаешься.
Трансформация образа
- замещение отрицательных эмоций прошлого. Очень важно уметь трансформировать отрицательные образы прошлого, которые мешают Вашему продвижению вперед.
Надо понимать, что изменить прошлое Вы не можете - оно уже состоялось. Но Вы можете изменить свое этого прошлого, свое отношение к нему, свое восприятие.
Обратите внимание на очень простое упражнение, которое поможет вам справиться с Вашими прошлыми кошмарами. Его выполнение займет у Вас максимум пять минут, а эффект Вы почувствуете сразу. А научившись влиять на свое отношение к прошлому, Вы сможете легко изменить свое настоящее и будущее.
Шаг 1. Определение проблемы.
Определите то проблемное поведение или проблемную ситуацию, которые мешают достичь цели. Мысленно создайте негативную картинку и условно назовите её "пусковая картинка", а потом сделайте её маленькой, и пусть она исчезнет.
Шаг 2. Создание образа.
Создайте образ самого себя в своём воображении, как бы из будущего, где Вы уже достигли результата, или разрешили свою проблему позитивно. Постарайтесь сделать образ или результат ярким.
Шаг 3. Трансформация образа.
Теперь давайте трансформируем "пусковую картинку" и заменим её новой, позитивной.
Выполнение техники:
Представьте перед собой экран. В левый нижний угол поместите "позитивную картинку" и сделайте её маленькой и тёмной. Всё остальное место на Вашем воображаемом экране должна занимать "пусковая картинка".

Теперь, по команде, увеличьте размер и яркость "позитивной картинки" и пусть она закроет полностью "пусковую картинку", а старый образ с проблемной ситуацией или с проблемным поведением потемнеет и исчезнет.

Сделайте это быстро, за 1-3 секунды. Как только Вы поменяете картинки местами. и Ваша "позитивная картинка" станет большой, яркой и чёткой - отвлекитесь, посмотрите по сторонам, переведите взгляд с одного предмета на другой.
Затем вернитесь в себя и проделайте всю процедуру снова.
Опять отвлекитесь.
И так 5-7 раз.
Доведите до автоматизма. Пусть сама мысль о проблемной ситуации или проблемном поведении тут же вызовет появление "позитивной картинки".
Шаг 4. Проверка результата.
Теперь вспомните ту, первую "пусковую картинку" и попытайтесь её удержать. Что происходит?
Если процедура была проделана правильно, то старая картинка будет исчезать, а на её месте автоматически появится новая "позитивная картинка".
"Зло, знающее само себя, было менее ужасно и более близко к выздоровлению, нежели зло, ничего о себе не ведающее".
Бодлер
Как известно, культура - выродившийся культ. По мере исчезновения любви к Богу театр становился популярнее Литургии, литература вытесняла жития святых, "психоанализ" - исповедь. При этом только в традиционном обществе образ вполне дьявола соответствовал его реальной сущности - врага рода человеческого.
Только в Священном Писании и Предании отражается его зловещая сущность, сущность того, кто бродит по миру "как рыкающий лев, ища, кого поглотить" (1Пет.5:8). И то, что сейчас говорить о бытии сатаны стало "не политкорректно" не только среди большого числа светских лиц, но даже и среди некоторых людей, называющих себя православными христианами, как раз и говорит о его вполне реальном бытии и его силе, которой Бог пока попускает творить зло. Классическим в этом плане предстает житие прп.Антония Великого. Там демон, мимикрируя под различные существа, пытается соблазнить святого множеством различных способов: блудом, гордостью, наконец - запугать, явившись в образе различных зверей. В конце концов святой побеждает, изгоняя сей прОклятый род, точно по Писанию, "постом и молитвой". Смирение и вера святого побеждают все козни и хитрости бесов. Но здесь, и в многих других Житиях, ключ к истинному понимаю сатаны: каждый образ, в котором он является, есть личина для определенного способа соблазна, причем для человека, пребывающего в том, или ином настроении. Так жулик иногда надевает униформу гаишника, "окучивая" водителей, иногда - белый халат врача, шарлатански охмуряя больных, иногда - костюм налогового полицейского, запугивающего бизнесменов. Маски - лишь видимость, суть - обман. Так же и с сатаной. Его маски - это дань настроению и образу жизни "пациента". К блуднику он явится объектом эротических желаний, к тщеславному - льстецом, к трусу - его якобы защитником. Суть действий - неизбывная злоба погибающего существа, эдакого чумного больного, желающего любой ценой заразить побольше окружающих.
Но мы давно уже живем не в традиционном обществе. Истинного понимания сути врага рода человеческого, в общем, напрасно искать в светских произведениях. Но наблюдательному человеку романы и стихи многое говорят о духовном состоянии автора, общества и периода, в который они писались: дьявол выбирает тот вид соблазнения, который сработает именно в это время, и именно для этих индивидуумов. И является именно в таком обличьи, которое именно для этого вида соблазна лучше всего подойдет. Очередная маска вечного лицедея - зеркало своего времени. И, вместе с тем, с помощью этой маски князь мира сего влияет на ту или иную эпоху. Итак: каждый новый образ дьявола - диагноз времени. И он же - его возможное будущее .
В светской литературе прошлых веков образ дьявола обычно колебался между двумя полюсами: от величественного даже в падении Люцифера из поэмы Мильтона "Потерянный рай", до пошлого приживальщика в "Братьях Карамазовых" Достоевского. Согласно со святоотеческим преданием, бес может менять личину. И он ее всегда менял, в зависимости от того, кому хотел понравиться, кого соблазнить. Как говорил свт. Иоанн Златоуст, грех вначале опьяняет, потом тошнит. По словам людей, много лет употреблявших наркотики, со временем они начинали колоться уже не ради удовольствия: нет, они кололись, чтобы не началась ломка. То же говорят и хронические алкоголики: на заре туманной юности они начинали пить с удовольствием, потом, со временем, они пили уже только для того, чтобы не впасть в депрессию, а то и в белую горячку. Итак, здоровый человек начинал употреблять дурман для "кайфа", а став из-за этого употребления больным, употреблял его уже ради отсутствия черного уныния. Попытка взять небо химическим путем оборачивалась черным адом. Человек со временем уже не рвался в небо, а пытался выжить в собой же созданном аду. Начал грешить из удовольствия, продолжил - из привычки, в конце грешил - из страха "ломки". Так же произошло и с образами сатаны. Мильтон писал во времена, когда мир был сравнительно юн. Ему, наследнику сравнительно здоровых предков, и дьявол мог показаться в сравнительно здоровом виде, с остатками ангельского достоинства. А вот Ивану Карамазову, сыну развратного и безбожного отца, в свою очередь происходившего от отпавшего от Бога и вырождающегося дворянского рода, дьявол не мог представиться таким уж светоносным Люцифером. Враг рода человеческого понимает, что в таком виде молодой Карамазов его просто не воспринял бы. Скептический ум университетского воспитанника уже хорошо знал тщету протестантских и атеистических богоборческих революций, его усталый ум не пленяли буйные восстания против человеческой и небесной иерархии. У него не хватало даже сил и мужества, чтобы стать настоящим атеистом. Иван Федорович - теряющий волю к жизни агностик. Лучший способ его соблазнения - удерживать его в этом состоянии. "...Борьба веры и неверия - это ведь такая иногда мука для совестливого человека, вот как ты, что лучше повеситься... Я тебя вожу между верой и безверием попеременно, и тут у меня своя цель ", - говорит ему бес. Совершенно ясно, на что его толкает бес. На самоубийство. Ведь черное уныние, рождающиеся из невозможности верить в любую, даже ложную истину - это самое страшное, что можно себе представить для искреннего и честного перед самим собой человека. Сумасшествие Карамазова - это его бегство от самоубийства, своего рода защитная реакция души. В этом, вероятно, сказались те остатки Православия, которые у него оставались. Все же он воспринимал зло как зло, и его иногда мучила совесть. Причем Достоевский четко намекает, разговор с бесом - это не просто галлюцинации больного Ивана Карамазова.
"Гость говорил, очевидно увлекаясь своим красноречием, всё более и более возвышая голос и насмешливо поглядывая на хозяина; но ему не удалось докончить: Иван вдруг схватил со стола стакан и с размаху пустил в оратора...
....Слышишь, лучше отвори, - вскричал гость, - это брат твой Алеша с самым неожиданным и любопытным известием, уж я тебе отвечаю!...
....Стук продолжался. Иван хотел было кинуться к окну; но что-то как бы вдруг связало ему ноги и руки. Изо всех сил он напрягался как бы порвать свои путы, но тщетно. Стук в окно усиливался всё больше и громче. Наконец вдруг порвались путы, и Иван Федорович вскочил на диване. Он дико осмотрелся. Обе свечки почти догорели, стакан, который он только что бросил в своего гостя, стоял пред ним на столе, а на противоположном диване никого не было. Стук в оконную раму хотя и продолжался настойчиво, но совсем не так громко, как сейчас только мерещилось ему во сне, напротив, очень сдержанно.
- Это не сон! Нет, клянусь, это был не сон, это всё сейчас было
! - вскричал Иван Федорович, бросился к окну и отворил форточку.
- Алеша, я ведь не велел приходить!..."
Бес, согласно церковному вероучению, с которым был хорошо знаком Достоевский, легко может проникать сквозь стены, очень быстро перемещаться в пространстве. Поэтому он предвидит появление Алеши под окном и говорит об этом Ивану. То, что вроде бы брошенный в него Иваном стакан остается на месте, это тоже закономерно. Ведь доказательство существования потустороннего и не должно быть таким уж материальным, когда, как смеется автор над спиритистами в другом месте романа, "бесы им рожки с того света показывают". Стакан остался на месте - это галлюцинация. Но все остальное - вовсе не галлюцинация больного Карамазова. Другой герой Достоевского, Свидригайлов, с которым судя по всему внутренне согласен и автор, говорит: "Привидения - это, так сказать, клочки и отрывки других миров, их начало. Здоровому человеку, разумеется, их незачем видеть, потому что здоровый человек есть наиболее земной человек, а стало быть, должен жить одною здешнею жизнью, для полноты и для порядка. Ну а чуть заболел, чуть нарушился нормальный земной порядок в организме, тотчас и начинает сказываться возможность другого мира, и чем больше болен, тем и соприкосновений с другим миром больше, так что когда умрет совсем человек, то прямо и перейдет в другой мир".
Дьявол явился пошляком к Ивану Карамазову, желая повергнуть его в уныние его собственной, карамазовской пошлостью. Но Карамазов все же был не пошл. Даже сумасшествие все же лучше вселенской энтропии...
Достоевский - нерв своей эпохи, прекрасно прочувствовал этос загнивающего правящего класса России: стремление к самоуничтожению. Все эти спивающиеся дворянчики, пишущие безбожные и похабные произведения, глумящиеся над царями, иногда со скуки жертвующие деньги на революцию, иногда даже становящиеся террористами-революционерами - они просто хотели покончить с собой. Вместе с тем, они революцию только готовили. Сделали же ее люди, которым сатана явился в образе светозарного люцифера. Они часто были детьми верующих родителей из простых сословий, что давало им жизненную силу. Дьявол по-разному представлялся "чахоточному духа" - вырождающемуся дворянину Карамазову - наследнику многих столетий европейского отпадения от Бога, и жившему задолго до него протестантскому революционеру Мильтону. Последний должен был иметь еще некоторую волю к жизни, для того, чтобы помогать богоборческому порыву масс. Он должен не только погубить себя, но и множество других. Мильтон горячо приветствовал иконоборчество, убийство законного монарха, разорение последних монастырей. Он был, наверное, известнейшим публицистом английской революции. Так, в своей брошюре "Против новых насильников совести" (1646), он взял на себя затем защиту индепендентов в проводимом ими "процессе" над королем Карлом Стюартом. В книге "Обязанности государей и правительств" (1649) писатель доказывает, что король Карл I якобы не выполнял своих обязанностей и этим вызвал "законное" возмущение народа. В знаменитом трактате, который и называется показательно - "Иконоборец" (1649) Мильтон оправдал приговор, вынесенный Карлу I, и беззаконное убийство короля, объявив эти акты "необходимыми" для защиты английского народа от "губительной политики короля-изменника", будто бы развязавшего войну в Англии. Мильтон играет все более важную роль в идеологических делах индепендентского парламента и становится при нем как бы начальником канцелярии по внешним сношениям. Через него идет переписка с иностранными державами, и он официально называется "секретарем для переписки на иностранных языках". После той бойни, которую развязали победившие богоборцы, после той диктатуры, которую развязал Кромвель, английское общество довольно быстро созрело к мысли вернуть монарха. Но сам Мильтон, явно симпатизировавший дьявольским переменам, остался до конца верен богоборческой республике. В его знаменитой поэме "Потерянный рай" Человек появляется лишь во второй половине Книги IV. Все это время на сцене почти безраздельно царит Сатана. Именно он - главный герой поэмы. Правда, сатанизм там все же не царит открыто. В последней части поэмы Сатана унижен, и Бог побеждает. Но и это закономерно. Сатанизм всегда, особенно в начале скорбного пути мировой апостасии предстает с большой долей кажущегося добра. В сущности, грешник повторяет путь самого дьявола: в начале тот был светоносным ангелом, потом, при начале падения сохранял сравнительно много данных Богом жизненных сил, потом - слабел и унывал все больше и больше. Вечная смерть - вечное падение в бездну, в котором даже кошмарное вчера кажется настоящим раем по сравнению с еще более кошмарным сегодня, а завтра будет страшнее обоих. Потому уже упомянутый герой Достоевского Свидригайлов - наследник всего нигилизма идей прошедших в Европе революций, сын безбожных предков, кончает с собой. Он не смог спрятаться в сумасшествии, как Иван Карамазов.
Мильтон:
"...пусть
Всесильный Победитель на меня
Оружие любое подымает! - не согнусь
И не раскаюсь, пусть мой блеск померк...
Еще во мне решимость
не иссякла
...сохранен запал
Неукротимой воли
, наряду
С безмерной ненавистью, жаждой мстить
И мужеством
- не уступать вовек."
Соратник отвечает сатане:
"...Мы изгнаны с высот, побеждены,
Низвергнуты, насколько вообще
Возможно разгромить богоподобных
Сынов Небес
; но дух, но разум наш
Не сломлены, а мощь вернется вновь,
Хоть славу нашу и былой восторг
Страданья поглотили навсегда..."
Итак, автор, явно сочувствуя своему герою, ошибочно видит в сатане мужество, стойкость в перенесении страдания, сохранение богоподобия. На деле это хитрец сатана ждет от своего "пиарщика" именно своеобразного мужества и воли, решимости в революционном богоборчестве, представляясь ему таким, и, увы, не напрасно...
Другие духовные "современники" Мильтона - революционеры, тоже представляют себе сатану, как вечного бунтаря, причем они уже открыто, не маскируясь, поклонялись ему. В молодости Карл Маркс писал стихи.
Маркс, стихотворение "Скрипач" (одно из средневековых названий дьявола):
"Адские испарения поднимаются и наполняют мой мозг до тех пор, пока не сойду с ума, и сердце в корне не переменится. Видишь этот меч? Князь тьмы продал его мне".
Обратимся к содержанию его же поэмы "Оуланем" (Эммануил навыворот - обычный прием черной магии):
Всё сильнее и смелее я играю танец смерти, И он тоже, Оуланем, Оуланем - Это имя звучит как смерть. Звучит, пока не замрёт в жалких корчах. Скоро я прижму вечность к моей груди И диким воплем изреку проклятие всему человечеству.
В своём стихотворении "Бледная девочка" Маркс пишет: "Я утратил небо и прекрасно знаю это. Моя душа, некогда верная Богу, предопределена для ада".
Маркс был страстным почитателем французского революционера Бабефа. В свое время Бабеф писал: "Любовь к революции убила во мне всякую другую любовь и сделала меня столь же жестоким, как диавол". Прудон другой революционер и друг Маркса заявляет: "Мы овладеваем знанием, не смотря на Бога. Мы овладеваем обществом помимо Бога. Каждый шаг вперёд - это победа, которой мы одолеваем Божество". Прудон восклицает: "Бог - это глупость и трусость! Бог - лицемерие и фальшь! Бог - это тирания и нищета! Бог - это зло! Я клянусь, Бог, подняв к небу руку, что Ты не что иное, как плач моего разума, жезл моей совести". Бакунин не только восхваляет Люцифера. В своей программе революции он писал: "В этой революции нам придётся разбудить диавола, чтобы возбудить самые низкие страсти".
В одном из романов К. Льюиса - неизмеримо более богоугодного английского писателя, бес говорит по поводу этой богоборческой страсти к переменам у горделивых умов: "Ужас перед старым и неизменным - одна из самых ценных страстей, которые нам удалось вырастить в человеческих сердцах, неиссякаемый источник ереси в религии, безрассудства в советах, неверности в браке, непостоянства в дружбе. Люди живут во времени и переживают действительность как ряд последовательных происшествий. Поэтому, чтобы много знать о действительности, они должны обладать богатым опытом, иными словами, они должны переживать перемены".
Первым революционером был сатана, и таким же его видели его человеческие эпигоны. Но совсем по другому все видится усталому развратнику и наркоману Бодлеру. Рано проснувшееся в Бодлере любопытство к злу, торопливое стремление самому заразиться "грехом", испробовать "окаянный" образ жизни и, главное, исподволь созревшее убеждение в том, что сладострастие и плотский инстинкт как начало зла, могут послужить благодатной почвой для творчества. Ему даже, судя по всему, не приходило в голову, что есть творчество поважнее кропания стихов. Что главное творчество - это синергия с Богом. Что даже и стихи могут иметь другие, более здоровые корни. "Цветы зла":
"...О муза бедная! В рассветной, тусклой мгле
В твоих зрачках кишат полночные виденья;
Безгласность ужаса, безумий дуновенья
Свой след означили на мертвенном челе.
Иль розовый лютен, суккуб зеленоватый
Излили в грудь твою и страсть и страх из урн?
Иль мощною рукой в таинственный Минтурн
Насильно погрузил твой дух кошмар проклятый?..."
Здесь погибающий человек все же осознает, что мир, в который он по своей воле погрузился - кошмарный мир. И суккуб у него неприятен и страшен. Но выхода не видит... И в других стихах этого цикла, которые не хочется даже цитировать, обреченные на вечную гибель персонажи с обреченностью идут в пропасть, не видя выхода. От Бодлера дьявол тоже ждал самоубийства, и его мучительная затянувшаяся смерть от наркотиков, алкоголя и остаточных явлений сифилиса, была действительно похожа на затянувшийся суицид...
В 20 веке на долгие десятилетия образ сатаны почти исчез из искусства. Как известно, самая большая уловка сатаны - доказать, что его нет.
Но вернемся к нашему времени. Литература умерла. Она умерла как резонансное явление, менявшее облик общества и в позитивном, в негативном ключе. Конечно, и сейчас есть книжки, которые многие читают. И есть еще довольно большие социальные группы, которые любят это занятие. Но эффект от книг Дарьи Донцовой никак не сравнить с эффектом от произведений Л. Толстого - действительно "Зеркала русской революции". Или, уже с обратным, позитивным знаком - произведений Достоевского.
На сегодня, например, компьютерные игры, на которых воспитываются целые поколения молодежи, куда важнее литературы. А в них примерить одежды адского прислужника можно (а вся массовая культура говорит: "Нужно!), уже в интерактивном режиме. Причем создателями иногда применяются и обманные приемы для ассоциирования себя с нечистой силой. Так, в одной из игр, можно быть человеком, гоблином или демоном. Но программа такова, что люди - самые никчемные - отстойные - выражаясь молодежным сленгом, у них самые слабые игровые возможности. Потому все играют на стороне нечистой силы. Хотя есть и еще намного худшие игры, которых поистине - легион.
В эпоху массовой культуры пока еще, по-прежнему есть фильмы, где он страшен. Но в нынешних ужастиках он изгоняется не святой водой, а языческими заклятиями. "Дьявол изгоняется Вельзевулом" - что, как известно, невозможно по определению. На деле это значит, что один бес приходит на место другого. В современных "ужастиках" все мешается, причем иногда - несколько раз в одном фильме. "Добрые" вампиры могут бороться против злых оборотней. Потом, в конце фильма может оказаться, что это оборотни были добрые. Людям отводится роль "мяса".
Тем не менее, более типичным является теперь обыденный образ нечисти. Как было указано выше, ищите образ современности. Тогда вы поймете и тот образ, в котором ныне является сатана. Уровень падения современного человека диагностирован еще Ницше, по-карамазовски избравшим сумасшествие.
"Земля стала маленькой, и по ней прыгает последний человек, делающий все маленьким. Его род неистребим, как земляная блоха; последний человек живет дольше всех. "Счастье найдено нами", - говорят последние люди, и моргают. Они покинули страны, где было холодно жить: ибо им необходимо тепло. Также любят они соседа и жмутся к нему: ибо им необходимо тепло. Захворать или быть недоверчивым считается у них грехом: ибо ходят они осмотрительно. Одни безумцы еще спотыкаются о камни или о людей! От времени до времени немного яду: это вызывает приятные сны. А в конце побольше яду, чтобы приятно умереть (автор прямо визионерски провидел массовую наркотизацию и эвтаназию - прим. автора). Они еще трудятся, ибо труд - развлечение. Но они заботятся, чтобы развлечение не утомляло их. Не будет более ни бедных, ни богатых: то и другое слишком хлопотно. И кто захотел бы еще управлять? И кто повиноваться? То и другое слишком хлопотно. Нет пастуха, одно лишь стадо! Каждый желает равенства, все равны: кто чувствует иначе, тот добровольно идет в сумасшедший дом (или к психоаналитику - прим. Автора). "Прежде весь мир был сумасшедший", - говорят самые умные из них, и моргают. Все умны и знают все, что было; так что можно смеяться без конца. Они еще ссорятся, но скоро мирятся - иначе это расстраивало бы желудок. У них есть свое удовольствие для дня и свое удовольствие для ночи; но здоровье - выше всего. "Счастье найдено нами", - говорят последние люди, и моргают." Ф. Ницше "Так говорил Заратустра".
Таков же у этих "последних людей" и образ дьявола. И чаще всего дьявол предстает теперь гламурным персонажем, одним из современников, только лучшим. "Финит а ля-комедиа..." Он уже не грозный, но прекрасный люцифер, не пошляк, не образ ужасной, но притягательной бездны. Гламурный человек - человек вселенской энтропии. Он всецело плывет по течению своих мелких страстей, тщеславия, сребролюбия, похоти...
Люцифер, затем пошляк, затем... разбитной и юморной дядька, гламурный прожигатель жизни. Но самое страшное - полная отмена границ не только между добром и злом, но и между вымыслом и реальностью. Ведь люцифер, пошляк, суккуб - все они резко отличались от обычных людей. Художественные произведения - от реальной жизни, и все это понимали. Теперь он - глянцевый идол с обложки модного журнала, которому стремятся подражать многие... Страсть - это уже не грех. Пороки - не зло. Бездна - уже вершина.
Мультяшные интерактивные персонажи нечистой силы для сутками сидящих за компьютерами тинэйджеров становятся реальнее родителей и соседей. Театральная рампа исчезла. Зрители смешались с актерами и стали участниками одного дьявольского спектакля. Поэтому известный детский психолог и публицист Ирина Медведева наблюдает жуткое явление - дети в своих играх стали охотно примерять на себя роль нечисти. В последние 5-6 лет дети охотно играют, например, в ведьм, Кощеев и бабу Ягу, перевоплощаясь в них.
Всякая настоящая иерархия уже стерта. Революции старого образца уже не нужны - их просто не на кого направлять. Правители оскотинившегося человечества - только первые бараны.
К тому же, в старых революциях было все же слишком много идеализма и самоотверженности, которых сатана не любит. Новые революции - торжество "оранжевого" гламура на Востоке и психоделически - сексуальный коктейль на Западе. Фактически никакого риска для организаторов и участников, чистое шоу рок - концерта.
Здесь уже полная синергия. Он ИХ, они ЕГО. Ведь при обоих вышеописанных крайностях образа дьявола - у него были указаны существенные недостатки. Даже у Мильтона он хоть и сильный, и мужественный, и прекрасный - но все же опасный персонаж, и в конце концов - он наказан. И в более верном образе пошляка он тоже неприятен. Но сейчас исчезает само понятие зла и добра, на их место встают понятия удобства, удовольствия, безопасности. "У маленьких людей и пороки маленькие", - говаривал Ницше. Он уже не способен создать ничего великого в ЛЮБОЙ сфере - от науки до искусства. Не говоря уж о духовной.
Одним из теоретиков метода трансформации является Н.Д.Линде. В общем виде данный метод может быть выражен формулой: чувство – образ – трансформация – чувство. Терапевтический процесс может быть представлен как последовательность из 10 шагов: клиническая беседа, прояснение симптома, создание образа, исследование образа, проверка на фиксацию, трансформация, интегрирование образа с личностью, ситуационная проверка, экологическая проверка, закрепление.
Н.Д.Линде приводит 10 основных методов трансформации состояний:
Созерцание. Сосредоточение внимания на негативных качествах образа, созерцание его нежелательного качества для того, чтобы оно постепенно исчезло и вместе с ним исчезает негативное состояние.
Мысленное действие. Прежде всего, следует спросить клиента, что ему хочется с «этим» сделать, и во многих случаях найденное клиентом решение оказывается вполне адекватным. Избранный способ действия должен соответствовать структуре психологического конфликта.
Диалог. Разговор с образом как с реальной личностью, ведь он всегда выполняет для клиента определенные функции и воплощает те или иные чувства. Диалог может играть проясняющую роль, помогая выбрать правильную стратегию действий, но может служить и самостоятельным средством решения психотерапевтической задачи.
Взаимодействие противоположностей. Психологические проблемы связаны с наличием противоположных сил, причем одна из взаимоопределяющих друг друга сторон осознается, а вторая – нет.
Замена. В этом методе предлагается сначала найти образ, представляющий негативные чувства, а потом найти позитивный образ, который мог бы адекватно заменить его, после чего принять позитивный образ, отказавшись от негативного.
Передача чувства. Этот метод состоит в том, чтобы мысленно передать образу те чувства (негативные), которые он вызывает. По мере передачи чувств негативный образ тает, а с ним исчезает и негативное состояние.
Прослеживание судьбы образа. В этом подходе клиенту предлагается просмотреть процесс дальнейшего развития образа или его историю в обратном порядке вплоть до его возникновения. Как прошлое, так и будущее могут скрывать возможности избавления от негативного образа, а значит, и связанного с ним состояния (подобный метод используется в НЛП).
Свободное фантазирование. Отталкиваясь от первично заданного образа, клиенты (особенно художественного склада) могут просмотреть целый фильм в своем воображении, что само по ходу является трансформацией личности.
Расширение осознания. Метод предполагает умение терапевта задавать вопросы, проявляющие скрытый смысл, содержащийся в образе. Цель его – более полное осознание клиентом своего проблемного поля.
Волшебство. Этот метод предполагает различные варианты волшебных изменений по желанию клиента под магическим воздействием терапевта. Он применяется при разрешении тупиков третьей степени, когда человек считает, что чувствовал себя так всегда и не находит способа изменить образ. При этом клиенту предлагается представить, что образ изменился в нужном русле и описать, как он себя при этом чувствует.
Петренко Наталия Сергеевна 2007УДК 300.37
Н. С. Петренко
ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗА ЧЕЛОВЕКА В КОНТЕКСТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ (НЕКОТОРЫЕ СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ)
В статье рассматривается круг вопросов, относящихся к области индивидуальной модернизации, трансформирующей образ человека, его социальнопсихологические установки и ценности в сторону приближения к образу «мо-дернити». Дан частичный сопоставительный анализ требований со стороны общества к трансформирующейся личности в двух несовпадающих парадигмах: в рамках протяженной во времени социально-экономической и культурной модернизационной стратегии, с одной стороны, и в случае ситуационного реагирования на множество разнонаправленных вызовов современности в условиях динамично меняющегося общества, с другой стороны. Показано различие некоторых определяющих личностных характеристик, доминантных черт и компенсационных психологических механизмов, задействованных в этих двух парадигмах.
Введение
В настоящее время в социальной философии разработан целый спектр концепций, нацеленных на изучение культурных, социальных и психологических последствий перехода от традиционного к современному обществу. Гуманитарная составляющая этого процесса - так называемая индивидуальная модернизация, трансформирующая социально-культурный облик человека в сторону «модернити». Как отмечает В. Г. Федотова, «считается аксиомой, что переход общества из традиционного состояния в современное... сопровождается персональной модернизацией индивида, включающей в себя не только функционально запрашиваемые качества - узкую профессионализацию, экономический интерес, эффективность, планирование времени, но и ряд принципиальных социокультурных изменений - развитие рациональности, инновативности, формирование в себе субъекта творческой деятельности, способности быть персонально ответственным, привыкать к разнообразию взглядов, обретать личное достоинство, партикуляризм и оптимизм» . Вместе с тем имеет место своего рода несовпадение двух «списков» приоритетных качеств человека: в парадигмах искусственной социально-экономической модернизирующей стратегии, как в случае с попытками вестернизации и догоняющей модернизации, с одной стороны, и в условиях ситуационного реагирования на вызовы современности, когда есть требование готовности ко многим разнонаправленным вариантам социальной гибкости, мобильности, с другой стороны.
1. Личностные трансформации естественно-исторической модернизации
Переход от традиционного к современному обществу, формирование особого личностного типа было долгим и сложным. Можно говорить о социокультурных изменениях, начавшихся с европейских буржуазных революций и продолжавшихся в течение всего Нового времени; перемены были усилены возникновением национального государства, строительством система-
тического капиталистического производства, накоплением прикладного знания, прогрессистской культурно-цивилизационной парадигмой. Историческое приближение к эпохе «модернити» было медленным, неодновременным для разных культурных сообществ, часто останавливалось на полпути к сложившейся так называемой «поздней современности».
Драматичность, многослойность личностных трансформаций заключается в том, что многие общества находились на промежуточной стадии, осуществляя переход от доиндустриальной (аграрной) к техногенной, индустриальной цивилизации и в культурно-мировоззренческом плане двигаясь от общинно-коллективистских способов жизнедеятельности человека к обществу с частными формами социальной ориентации личности. При этом проявилась диалектика взаимодействия определенного типа общества и соответствующего типа личности. Традиционное общество было исторически первым, его черты распространены сейчас. Ряд исследователей отмечает, что попытки сконцентрировать усилия по модернизации одних сфер приводят к демодернизации других и реанимированию более архаичных пластов сознания из-за неадекватности избранной модели культуре народа.
Как отмечает В. Г. Федотова, традиционное общество - это общество, воспроизводящие себя на основе традиции и имеющее источником легитимации традицию, ее доминирование над инновацией; зависимость организации социальной жизни от религиозных или мифологических представлений, вообще большую роль вертикального измерения духовности, большую связь с сакральным в противовес горизонтальному измерению - практически-материальной составляющей и повседневной коммуникации; мысль о цикличности развития; коллективистский характер общества и отсутствие выделенной персональности; глубоко укорененное самосознание личности как элемента коллективного целого; авторитарный характер власти; предэконо-мический, предындустриальный характер; отсутствие массового образования; преобладание локального над универсальным и др. С другой стороны, к определяющим чертам «модернити» относятся преобладание инноваций над традицией; урбанизация, светский характер социальной жизни, поступательное (нециклическое) развитие; выделенная персональность; преимущественная ориентация на инструментальные ценности; требование более демократической системы власти; разнообразие позиций и многовариантность политического поведения; наличие отложенного спроса как способности производить не ради насущных потребностей, а ради будущего; распространение образования; формирование активного деятельного типа личности; культурное представление о том, что знание может быть оспорено; предпочтение мировоззренческому знанию точных наук и технологий (техногенная цивилизация); преобладание универсального над локальным и т.д. . Личностные качества человека традиционного общества являются следствием единой фундаментальной установки.
Культурные ориентации, характерные для модерности, воплощаются в институтах, но не сводятся к ним. Историческое формирование нового человека на базе уже существовавшего духа и ментальности включило в себя развитие способностей самоопределения, «самовопрошания» и самотрансфор-мации. В зависимости от адекватности представления человека о самом себе и о своем социокультурном статусе он мог строить и осуществлять свою
жизненную стратегию. Этот процесс исторически способствовал росту проектов самодетерминации . Искусственный модерн не был столь эффективен, как показал последующий опыт, он должен был органично созреть как продукт социальной и культурной жизни на основе эндогенных культурных факторов.
Социально-психологический портрет человека эпохи модерна сложился преимущественно на базе рациональности, личной инициативы, предпринимательства, персональной ответственности и протестантской этики, когда аскетизм и концепция достижительности этого религиозного движения сложным образом преобразовались в функциональные теории социального развития. Произошло взаимопроникновение религиозных идеалов и интересов их социальных носителей. По-видимому, как отмечает С. Н. Гавров, «мо-дерность, постепенно выходя за пределы Европы, стала распространяться по всему миру во многом потому, что никакие более традиционные общественные формы не могли противостоять ей. Вплоть до второй половины ХХ века реальное превосходство западной цивилизации над остальным миром было преобладающим, если не сказать абсолютным. <...> В качестве альтернативного западному пути развития в течение большей части прошлого века выступал социалистический проект, представлявший собой попытку достигнуть количественных экономических показателей ведущих государств модерно-сти» . Говоря о социокультурных предпосылках, характерных для идеи прогресса на протяжении всего периода ее существования, Р. Нисбет называет среди них веру в ценность прошлого; убежденность в величии западноевропейской цивилизации; высокую ценность, предписываемую экономическому и технологическому развитию; веру в разум и тот вид научноисследовательского знания, который может быть порожден только разумом; убежденность в ни с чем не сравнимой ценности жизни на этой земле . Утрата смысла и цели, связанных с Западом и его культурным наследием, приводит к изменению отношения не только к политическим, но также и социальным, культурным и религиозным институтам, пришедшим с Запада. Таким образом, построение обществ с чертами модерна не просто служило ускоренному преодоления отставания, но стало универсальным способом развития. Наблюдается тенденция рассматривать историю обществ других эпох и цивилизаций, а также общества на более ранних этапах его развития под углом их соответствия линейно-прогрессистской концепции.
2. Человек модерна как особый проект
Культурная и политическая программа Нового времени включила в себя установку на изменение социально-психологической модели человека в сторону модерности. Здесь обозначились две тенденции. Первая, проявившись в эпоху французской революции, дала возможность преодоления разрыва между трансцендентным и повседневным посредством активного социального действия, реализации утопических и эсхатологических мотивов . Например, в ХХ в. политика часто обращалась к этой стороне коллективного бессознательного, ассоциируя достижения модерна с реализацией «социальной утопии». Это связано с тем, что моделирование социальной реальности сопряжено с идеализацией, т.е. часто с погружением в той или иной степени в утопию: утопический элемент реформ быстрее мобилизует массы, привлекая их иллюзией близости желаемого. Утопист - максималист, его несогла-
сие с действительностью тотально (модель построения социализма в одной стране, построения коммунизма к 1980 г., рыночной экономики за 500 дней и др.). «Погружение в утопию, пусть и отгораживающее барьером из грез человека от действительности, одновременно делает последнюю предметом умственных манипуляций, объектом позитивного конструирования, которое осуществляется согласно логике интеллектуального произвола» .
Фиксируемые утопией социальные и духовные ценности детерминируются реальными потребностями людей, но по принципу «компенсации». «Заимствуя свой материал из действительности, утопия лишь придает ему новые формы, и поэтому структура утопических идеалов отражает структуру формирующихся в обществе приоритетов и ценностей. Поэтому всякая утопия, трансцендентная исторически-конкретному, оказывает на него свое воздействие и даже, условно говоря, вступает в контакты с различными общественными группами» .
Вторая тенденция подчеркивает возможность легитимации индивидуальных целей вследствие разнообразия персональных интерпретаций общего блага. Растущая индивидуализация, вплоть до атомизации, позволила сконструировать идеальную социально-психологическую модель человека для оптимального взаимодействия с другими людьми и с институтами. Возможность нового порядка сделала актуальными символы автономии личности: равенство, свободу, справедливость, самореализацию, идентичность и др.
Впоследствии, желая сделать социально-экономическое развитие более динамичным, теоретики вестернизации и догоняющей модернизации ХХ в. стремились усовершенствовать не только общество с его институтами, но и базовый культурно-психологический тип. Были проанализированы глубокие, устойчивые образцы поведения, жизненные стратегии человека, способного успешно функционировать в современном обществе. Обнаружилась фундаментальная упорядоченность привычных и незаметных форм повседневной жизни, соизмеримость индивидуалистической разумной морали с установкой общества на развитие. Утопический тип мышления, определяющий видение мира в связи с выработанным социальным идеалом, достижение которого невозможно в существующих условиях, поставил задачу формирования человека нового социокультурного типа. Культурная идентичность не должна препятствовать функции поддержки технологических инноваций и экономическому развитию. Это вызвало запрос на социальные технологии как совокупность методов, «оказывающих влияние на поведение человека и служащих в руках власти средством социального контроля» , поскольку предполагалось, что природа человека такова, что сам он не в состоянии воспроизводить нужные черты рациональным образом.
В связи с этим задачей образования, воспитания нового индивида и в целом социализации становятся личностные характеристики, которые прежде не были востребованы и не могли сложиться в рамках традиционной модели личности. Воспитательная и социализирующая функции обеспечивают не только формирование личности, но и интегрирующие связи между поколениями в обществе, создавая условия для его стабильности и успешного развития. Разработка социальных технологий, в принципе, не встречала никаких препятствий, поскольку она должна была ускорить встраивание человека в новую, предвосхищаемую реальность, практически трансформировать социокультурные установки на основе взглядов об идеальных условиях буду-
щего. Быстрый рост численности «личностей типа А» (менее пассивносозерцательного, нежели «тип В») призван был обеспечить жизнеспособность модернизирующегося общества, поддерживая изменения государства и экономики. У. Бек рисует картину «тройной индивидуализации»: «Освобождение от исторически заданных социальных форм и связей в смысле традиционных обстоятельств господства и обеспечения («аспект освобождения»), утрата традиционной стабильности с точки зрения действенного знания, веры и принятых норм («аспект разволшебствования») и - что как бы инвертирует смысл понятия - переход к новому виду социокультурной интеграции («аспект контроля и реинтеграции»)» . Социально-психологический образ человека модерна перекликается с анализом А. Маслоу самоактуализирующе-гося индивида, для которого «мотивацией является личностный рост, а не преодоление внешних по отношению к нему недостатков, стремление наиболее полно реализовать себя, самосовершенствование, самовыражение, ориентация на долговременные, а не сиюминутные интересы, развитие, одним словом, самоактуализация; эти люди целенаправленны, креативны и автономны» . Основополагающими требованиями к самоактуализирующемуся индивиду является опора на самого себя, свои знания, умения и способности; совершенствование их, развитие творческого потенциала (испытывая свои возможности, человек образует себя, свой внутренний мир и приобретает интеллектуальный и социальный капитал); социальная активность, направленная на преодоление обстоятельств внешней среды; готовность к трудовой аскезе; высокая профессиональная квалификация и восприимчивость к новому; готовность защищать свои выгоды и интересы; конкурентность как эффективность в достижении успеха с наименьшими затратами ресурсов наряду со способностью к солидаризации и взаимодействию; целеустремленность, рациональность и ответственность, а также другие санкционированные социумом позитивные свойства и ценности, предполагающие, однако, хоть сколько-нибудь стабильное, однонаправленное и по возможности долговременное развитие. Приближение к модерности как стратегический проект допускает рецессивную, непоступательную динамику, прогресс и регресс, но при анализе достаточно длительного временного контекста должно просматриваться продвижение вперед, в сторону улучшения жизни и накопления достижений и технологических новшеств. Вырастая из «хронолинейки» прогресса, оно интерпретируется как продвижение к лучшему будущему.
Попытки модернизирующей трансформации культуры связаны с выдвижением перед человеком целей, отнесенных к будущему, т.е. целей, которые находятся за пределами настоящего. Рассматривая своего рода изолированность во времени как одну из причин незавершенности проекта модерна, Р. Нисбет отмечает, что мысль о прошлом жизненно важна для идеи прогресса. «Обычно, когда речь идет о прогрессе, в голову тут же приходит будущее; но осознание движения от прошлого к настоящему - движения, которое можно без труда «телескопически выдвинуть», экстраполировать в будущее, -могло появиться лишь тогда, когда люди осознали наличие у них продолжительного прошлого» . Воспоминания о прошлом лежали в основе веры в прогресс во все те периоды, когда эта вера переживала свой расцвет. Люди обращались к прошлому как к чему-то большему, нежели руководство по управлению настоящим, считали, что, изучая его, можно распознать будущее и даже, быть может, предсказать его. «Речь не идет о том, что мы действи-
тельно можем распознать будущее надежным образом, просто изучая тенденции прошлого и настоящего. Будущее - подходящий предмет для намеков, интуиции, предположений и догадок, но это менее важно, чем историческая связь людей с прошлым, представляющая собой непременный элемент поддержания человеческой жизни в настоящем и средств осознать будущее в качестве самостоятельной и реальной временной структуры» .
Хотя естественно-исторический прогресс - это не то же самое, что стремление приблизить человека к образу модерности, нельзя сказать, что они совершенно не связаны друг с другом. «Бедность воображения», сосредоточенность на «здесь и сейчас», неспособность к выходу за рамки требований настоящего времени, имеющих в различной мере ситуативный характер, повлияла на высокую степень морального разочарования в проекте модерна. Анализируя упадок идеи прогресса и стремления к лучшему будущему в странах с состоявшейся модернизацией, Нисбет отмечает разрушающую роль потери гордости за историческое прошлое, которая приводит к ощущению бессмысленности и бесцельности того, что делается сейчас и что делали предыдущие поколения. Вместе с тем, в отличие от проблемы современности проблема модернизации (перехода к современности) возникает в ситуации глубочайшей «хронополитической травмы», вызванной сознанием несовременности, отсталости своей страны по сравнению с другими. Жить с таким сознанием -само по себе «шок», рождающий мысль о необходимости «шоковой терапии» с целью возвращения себе утраченного статуса современности .
3. Личностная модернизация как ситуационное реагирование на вызовы современности
Трудность социокультурных преобразований связана еще и с возросшей динамикой, нелинейностью, неустойчивостью изменений, масштабностью и уровнем социальных и демографических катастроф, когда не срабатывает предупреждающая, предвосхищающая психологическая и социальная адаптация человека на примере жизни предыдущих поколений, как это происходит при органичной естественно-исторической модернизации. Такие качества самоактуализирующейся личности, как способность к самоопределению, осознанному выбору, способность прогноза вероятных последствий этого выбора, ответственность перед собственным будущим оказываются частично парализованными. Человек вынужден ориентироваться в ситуации неопределенности, приспосабливаться к несоизмеримому с ним давлению, соответствовать неартикулируемым требованиям, времени на подготовку к которым у него не будет. П. Штомпка рассматривает эту ситуацию в терминах социальной травмы, которая завершается либо ее преодолением, либо углублением «социокультурного шока», либо сохранением травмы при адаптации к ней . С другой стороны, анализируя феномен российской модернизации, В. Ф. Наумова при рассмотрении российской цивилизации как системы стратегических ответов человека, его рациональных реакций на долговременные стрессовые ситуации, провоцируемые повторяющимися запаздывающими модернизациями, приходит к выводу, что «нельзя не заметить сходства некоторых характеристик с теми характеристиками стрессовых ситуаций, которые, по мнению современных исследователей, наиболее сильно влияют на человека, его поведение и сознание. Это длительность стресса и его неконтролируемость, большая доля вовлеченного в него населения, ско-
рость, с которой происходит такое вовлечение, его продолжительность, глубина и повторное вовлечение, а также степень незнакомости, непривычности, новизны кризисной ситуации» .
В условиях противоречивых разновекторных социально-экономических и культурных изменений имеет смысл, по-видимому, пересмотреть список требований к человеку обществ «зрелого модерна», «поздней современности», а также тех, которые только пытаются достичь этой стадии развития. П. И. Бабочкин анализирует социально-психологические и социокультурные характеристики «человека эпохи модернити» через понятие жизнеспособности, выделяя такие свойства, как высокая психологическая устойчивость; высокий уровень самоорганизации человека; способность сохранять и реализовывать в различных ситуациях свои «смысложизненные» позиции; высокая мобильность, позволяющая привязать среду обитания к потребностям человека (но в малых европейских странах переселения с места на место традиционно имеют меньшее значение, чем в переселенческих государствах ); способность к преодолению трудностей, особенно внутреннего характера (борьба мотивов и др.). «Смысл жизнеспособности человека в условиях динамично изменяющейся социальной среды состоит в том, чтобы не только выжить, не деградируя физически и духовно, а стать индивидуальностью, сформировать свои смысложизненные, мировоззренческие установки, реализовать свои задатки и потребности в социально значимой деятельности, продуктивной самореализации» . В. Г. Федотова выделяет такие помехи социальной адаптации личности в бурно меняющемся мире, как утрата ею контроля над социальными процессами, восприятие их как квазиприродных; неспособность человека и общества контролировать перемены; неспособность человека к планированию и достижению долговременных целей, жизненных стратегий . Проблема самоактуализации переводит вопрос об ответственности человека за свою успешность, эффективность в такую плоскость, что он должен сам отвечать за то, состоялся ли он. Только в независящих от него социоприродных его чертах он может возлагать вину на судьбу: самоактуа-лизирующийся индивид не тот, которому что-то добавлено, а тот, у которого природой ничего не отнято. Как отмечает З. Бауман, «имеет место нарастающий разрыв между индивидуальностью как предназначением и индивидуальностью как практической способностью самоутверждения. <...> Если они заболевают, то только потому, что не были достаточно решительны и последовательны в соблюдении здорового образа жизни. Если они остаются безработными, то оттого, что не научились проходить собеседования, не очень-то старались найти работу или же, говоря проще и прямей, просто от нее уклоняются. Если они не уверены в перспективах карьеры или дергаются при любой мысли о своем будущем, то лишь потому, что не слишком склонны обзаводиться друзьями и влиятельными знакомыми или же не смогли научиться искусству самовыражения и производить впечатление на других людей. Так, во всяком случае, им говорят, и они, похоже, верят этому, всем своим поведением показывая, будто и на самом деле все именно так и обстоит. <. > Риски и противоречия по-прежнему исходят от общества; индивидуализируются разве что долг и необходимость учитывать и преодолевать их» . Это то, что У. Бек называет «индивидуацией», чтобы отличать самостоятельного и саморазвивающегося индивида от просто «индивидуализированной» личности, т.е. от человека, у которого не остается иного выбора, кроме как дей-
ствовать так, как если бы «индивидуация» была достигнута. Образ жизни человека становится биографическим решением системных противоречий .
В длящейся ситуации стресса, шока социально-психологическая структура личности должна быть такой, чтобы дать возможность немедленно отреагировать на множество разнонаправленных вызовов, используя наработанный личностный и интеллектуальный капитал, исходя из сложившейся ситуации и своего опыта, и выдерживать этот шок долгое время. Российская запаздывающая (рецидивирующая) модернизация - это повторяющаяся ситуация ярко выраженного и продолжительного социального стресса, «влияние которого на психологию и стиль поведения неизбежно и значительно» . С другой стороны, по мнению В. Ф. Наумовой, «закольцованность» российской истории и свойство исторической, передаваемой из поколения в поколение «знакомости» не просто облегчают адаптацию к ней, они позволяют накапливать опыт жизни в катастрофических условиях. Это феномен так называемых «цивилизаций суровой истории». Рецидивирующая, т.е. периодически возвращающаяся догоняющая модернизация с ее тяжелыми социальными последствиями и высокой человеческой ценой - один из ключевых элементов непростой истории России, в результате которого сформировалась система рациональных, т.е. социально и личностно эффективных ответов человека на вызовы исторической судьбы. Возникает «цивилизация суровой истории» как естественно сложившийся, оптимальный способ жизни .
Так или иначе, можно заметить, что нужен сопоставительный анализ несовпадающих «списков» доминантных черт личности и компенсирующих психологических механизмов, требуемых социумом от человека, движущегося по пути индивидуальной модернизации. С одной стороны, это движение может происходить в рамках последовательной, продуманной длительной стратегии на изменение социально-культурного и психологического типа личности в сторону модерности, с другой стороны, по выражению Ортеги-и-Гассета, в условиях «растворения всякой перспективы в клубке окказиональностей», когда сиюминутные запросы современности выдвигают на первый план иные инициированные извне социально-психологические установки и приоритеты.
Список литературы
1. Федотова, В. Г. Человеческий капитал, персональная модернизация и проблема развития человека / В. Г. Федотова // Знание, понимание, умение. - 2007. -№ 1. - С. 163.
2. Федотова, В. Г. Модернизация «другой» Европы / В. Г. Федотова. - М. : Изд-во ИФ РАН, 1997.
3. Арнасон, Й. Коммунизм и модерность / Й. Арнасон // Теории социального изменения. Проблема множественности модерности. Аналитический обзор / П. Н. Фомичев. - М. : ИНИОН РАН, 2001.
4. Гавров, С. Н. Модернизация во имя империи / С. Н. Гавров. - М. : Эдиториал УРСС, 2004. - С. 18.
5. Нисбет, Р. Прогресс: история идеи / Р. Нисбет. - М. : ИРИСЭН, 2007.
6. Айзенштадт, С. Множественные модерности / С. Айзенштадт // Теории социального изменения. Проблема множественности модерности. Аналитический обзор / П. Н. Фомичев. - М. : ИНИОН РАН, 2001.
7. Сиземская, И. Н. Три модели развития России / И. Н. Сиземская, Л. И. Новикова. - М. : Изд-во ИФ РАН, 2000. - С. 97-100.
8. Мангейм, К. Диагноз нашего времени / К. Мангейм. - М. : Юрист, 1994. -С. 414.
9. Бек, У. Общество риска. На пути к другому модерну / У. Бек. - М. : Прогресс-Традиция, 2000. - С. 36.
10. Маслоу, А. Мотивация и личность / А. Маслоу. - М. : Питер, 2006. - С. 193195.
11. Межуев, В. М. Проблема современности в контексте модернизации и глобализации / В. М. Межуев // Этатистские модели модернизации / под ред. В. Н. Шевченко. - М., 2002. - С. 143.
12. Штомпка, П. Социология социальных изменений / П. Штомпка. - М. : Аспект-Пресс, 1996.
13. Наумова, Н. Ф. Рецидивирующая модернизация в России: беда, вина или ресурс человечества? / Н. Ф. Наумова. - М. : Эдиториал УРСС, 1999. - С. 18.
14. Травин, Д. Европейская модернизация / Д. Травин, О. Маргания. - М. ; СПб. : Тегга fantastica, 2004. - Кн. 1.
15. Бабочкин, П. И. Становление жизнеспособной молодежи в динамично изменяющемся обществе / П. И. Бабочкин. - М., 2000.
16. Федотова, В. Г. Апатия на Западе и в России / В. Г. Федотова // Вопросы философии. - 2005. - № 3.
17. Бауман, З. Индивидуализированное общество / З. Бауман. - М. : Логос, 2005. -С. 59.